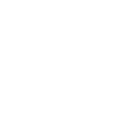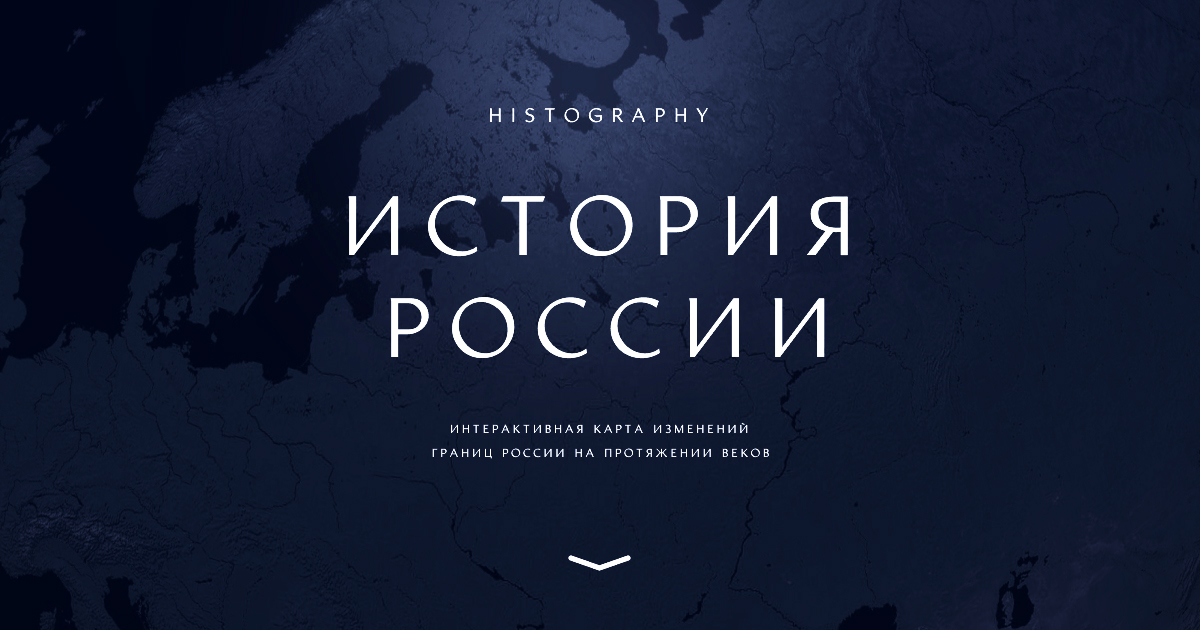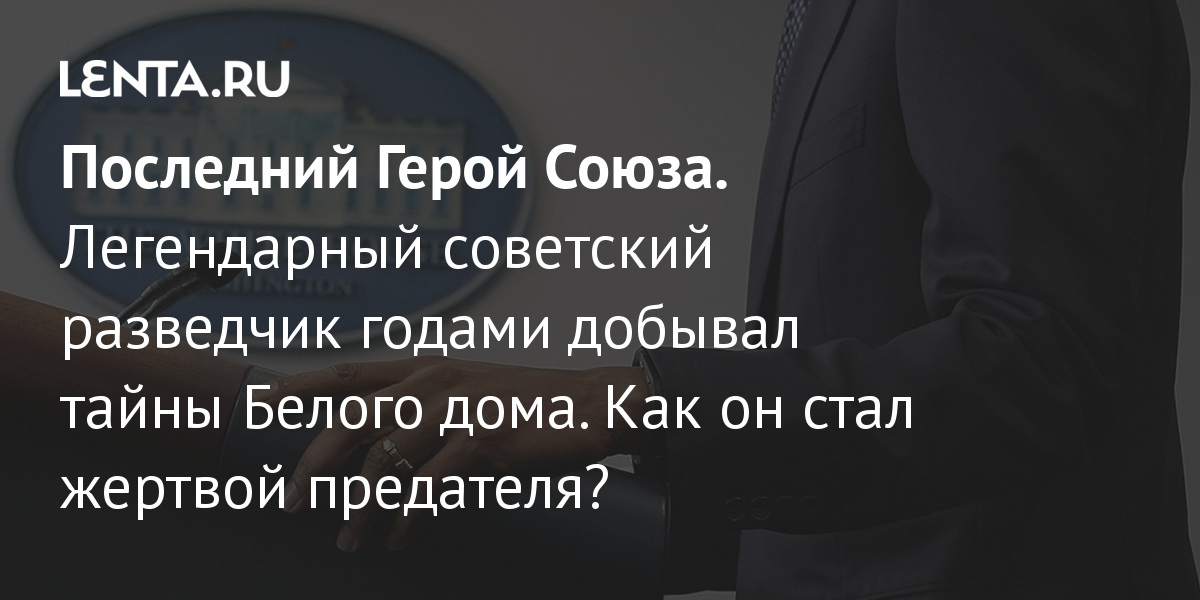Жизнь галерных рабов характеризуется всеми современниками как ужасная, причем не на одном только османском флоте, но и на всех европейских. Прежде всего таких рабов ожидал
тяжелейший и изнурительнейший труд. Ни один свободный человек, писал бывший галерный раб, не выдержал бы и часа пытки греблей, а «галерники-невольники продолжают эту работу иногда 10—12 часов без отдыха». Чешский дворянин Вацлав Вратислав, побывавший гребцом на турецкой галере, восклицал: «
Невозможно представить себе и поверить нельзя, чтобы могла живая душа человеческая вынесть и вытерпеть такую ужасную страду...»
При этом османское военно-морское командование руководствовалось террористической системой управления и наказания, почему жесточайшее отношение к гребцам было нормой. В турецком морском уставе говорилось, что поскольку «невольники всегда хотят избежати от работы», следует «принуждати их к работе не токмо словом, но и жезлом, которым их страхом лутче может дело их управлено быть».
Гребцы группами по несколько человек сковывались между собой и за ноги приковывались к банкам или кольцам в палубе. Часто кандалы сковывали и руки, но так, чтобы не мешать гребле. Не покидая банок, рабы тянули паруса и по сменам ели и спали. Вовсе не преувеличением было описание страданий казаков-галерников в украинских думах: «Кайданы-зализо ногы поврывало, / Билэ тило козацькэ молодэцькэ коло жовтой кости пошмугляло»или «Кайданы рукы-ногы позьидалы, /Сырая сырыця до жовтой кости /Тило козацькэе пройидала» (ноги и руки проедены до костей железными кандалами или сыромятным ремнем).
Галерный пристав и его помощники ударами ременных кнутов по рукам и плечам рабов «управляли» их работой. Бич же служил «единственным средством против болезни», а падавших от изнурения выбрасывали за борт.
После осмотра в 1640 г. у Стамбула кораблей турецкой эскадры, направлявшейся против донских казаков под Азов, польский посол В. Мясковский написал:«... сердце наше очень щемило, когда мы видели братью нашу, подданных е[го] к[оро-левской] м[илости], столь многих, на галерах и лодках прикованных к веслам и тяжко и нагишом работающих».
Позже московскому паломнику И. Лукьянову, выходившему на галерах из османской столицы «на Белое море и на Черное», удастся побеседовать с некоторыми соотечественниками-рабами, и его охватит ужас от их рассказов: «... как есть во аде сидят... Иной скажет: я де на катарге сорок лет, иной тридцать, иной двадцать... Уже на свете такой нужды нельзя больше быть!» А другой паломник, тоже поглядев на гребцов «наших русских и из других земель», запишет: «О, коль на тех каторгах многу нужду претерпевают, ее же описати не вем...»10
Нет ничего удивительного в том, что пребывание на турецкой галере, по выражению публикатора документов об одном из возмущений галерных рабов,
доводило их «
до крайнего предела возможных человеческих страданий, из которых не предвиделось никакого выхода до смерти», и стало «в представлении южнорусского народа... синонимом беспредельной скорби и безнадежного бедствия, хуже которого ничего не могло создать даже пылкое воображение». Более того,
нечеловеческие условия существования галерников, жесточайшие наказания, страшное переутомление при гребле, отвратительная еда, жара и холод, худая одежда, паразиты — все это привело к тому, что само название османской галеры «каторга» (по-турецки «кадырга», от греческого «катергон»), употреблявшееся у казаков, вошло в восточнославянские языки уже в другом значении, не имеющем никакого отношения к флоту, — в качестве синонима отбывания наказания в особо суровых условиях.
(с) ТГ
имха